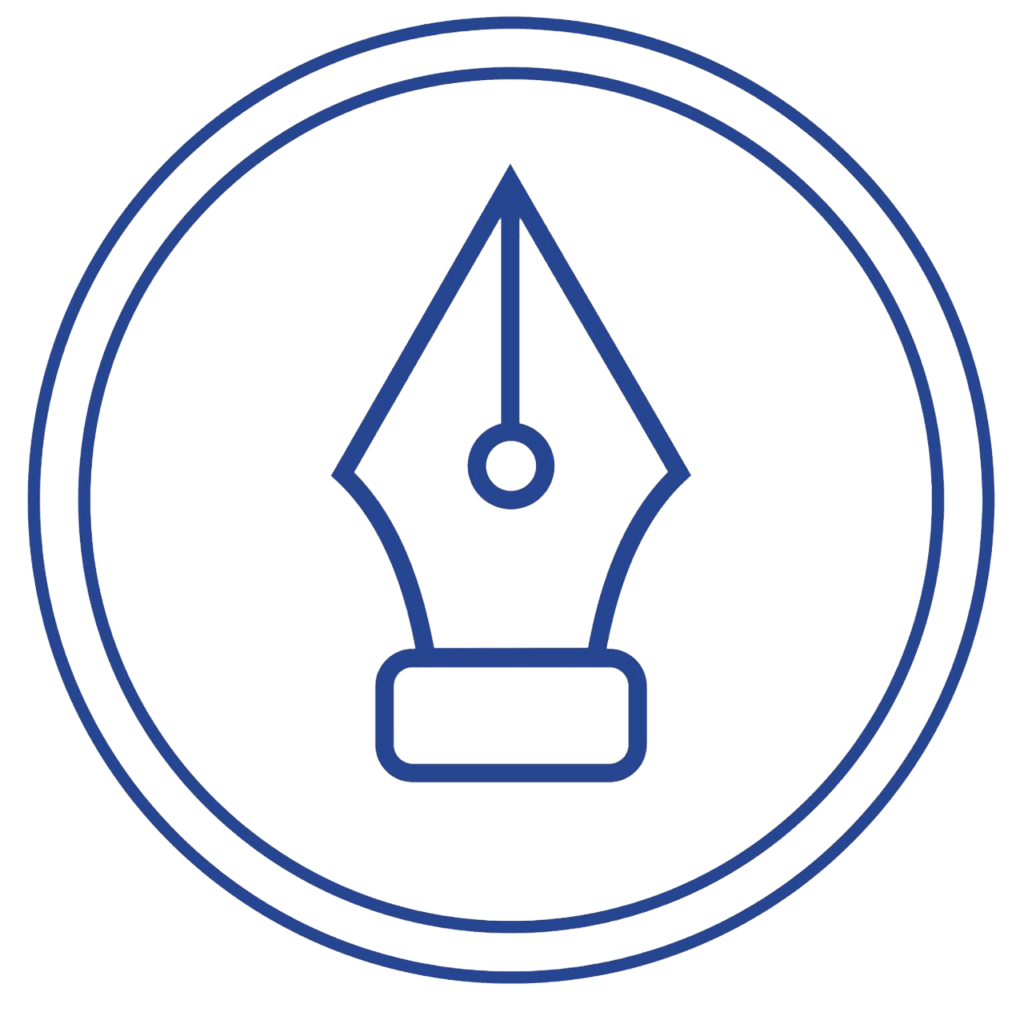Расшифровка ЛЕОНИД МЛЕЧИН: СУДЬБА ЖУРНАЛИСТА
Встреча Леонида Млечина со слушателями Московской школы международной тележурналистики, рекламы и паблик рилейшнз в Центральном Доме журналиста
МЛЕЧИН: У меня очень тихий голос, поэтому желающие не слышать могут сесть подальше, и будут чувствовать себя абсолютно спокойно…
Рад вас видеть, милые девушки, совершившие героический подвиг в такую погоду, явиться…
МЕЗЕНЦЕВ (руководитель школы): Ну, Млечин же! На Млечина пришли!
МЛЕЧИН: Что совсем странно, поскольку, если вы собираетесь быть журналистами, то вы уже все знаете, что вам нет никакого смысла выбирать эту профессию.
Человек, который в чем-нибудь сомневается, и думает, что он чего-то не знает, что кто-то ему что-то может подсказать, журналистом быть не может, потому что ему не хватит в таком случае наглости, самоуверенности, твердой убежденности в том, что он один во всем разбирается.
Трудно будет вам, если вы в чем-то сомневаетесь, если у вас есть ощущение, что что-то можно узнать, прежде чем иной раз скажете об этом другим.
Значительно проще будет, если вы будете знать, что от вас ждут читатели, телезрители и слушатели, если вы абсолютно убеждены в своих выдающихся профессиональных качествах, в том, что никакой редактор вам не нужен, что человек, который будет делать вам критическое замечание – козел, то будет значительно проще работать. Я вас уверяю, это — прямая дорога к успеху.
Если у вас все-таки есть какие-то сомнения, причем сомнения во всем, то вам придется трудно в этой профессии. Но тогда, возможно, у вас возникнет ощущение, что вы занимаетесь чем-то незаменимым. Вот давайте о всякого рода сомнениях поговорим.
Впрочем, значительно мне было проще, если я знал, чего вы бы хотели от меня услышать, и мы бы с вами беседовали в режиме диалога: вы бы задавали мне эти приятные вопросы (кто ты вообще такой-сякой, и что ты собираешься нам рассказать), а я бы попытался на них ответить.
СЛУШАТЕЛИ: Какими качествами должен обладать человек, желающий стать журналистом?
МЛЕЧИН: Я вам только что сказал. Полной беспринципностью, абсолютным цинизмом, самоуверенностью — вот качества для успеха.
— А из положительных качеств?
— Так это и есть положительные! Отрицательные качества состоят… Первое: в странной уверенности, что ты любишь эту профессию, что тебе действительно хочется быть журналистом, тебе нравится писать, тебе нравится снимать, тебе нравится встречаться с людьми, что-то от них узнавать, а то, что они тебе рассказали, трансформировать в какую-то такую форму, которая будет всем интересна, что тебе просто это нравится.
Вот ты написал заметочку в сто строчек, взял свой экземпляр. Ты сидишь один, и счастливый: тебе нравится, ты получаешь от этого удовольствие. Если получаешь от журналистики удовольствие, вот от этого удовольствие — не от денег, не от того, что тебя там по-особенному встречают – ну, журналист, из Москвы, ну ты… Вот не от этого, а от журналистики ты получаешь, значит ты…
— А вы обладаете такими качествами?
— Да. Я и по сей день помню, когда я написал первую заметку. Ее напечатали в «Пионерской правде», я в девятом классе учился, и там было написано «ученик 16-ой школы». И со всей страны я стал получать бешеное количество писем. И даже хранил их до недавнего времени. А когда меня напечатали в «Вечерней Москве» — я написал туда небольшую заметочку, на последней полосе, крохотную, вот такую. Газету вечером продавали, и я стоял у ларька и смотрел, как люди покупали газету, а там моя заметка!.. Ну, что вы! И когда впервые отпечатали и позвали за гонораром, я был в шоке. Какой гонорар? Такое счастье, меня напечатали! Ой, хорошо, что с меня-то денег не взяли за это!..
— А какая была ваша первая работа на телевидении?
— Вот вы знаете, на телевидение я попал совершенно случайно, я абсолютно не телевизионный человек…
Я таким стал, потому что вырос без телевизора. Мои родители, бедные были в довольно трудном материальном положении, и просто не могли этим заниматься.
Я был без телевизора и в этом было огромное достоинство и маленькие недостатки… Боюсь, вы даже не сможете понять… Была такая передача «Кабачок 13 стульев» — юмористическая программа, герои которой были известные люди. Все — как герои какого-то сериала. Ну, там не знаю, «Моя прекрасная няня…». Всех их знали. И в какой-то момент в школе я обратил внимание, что ребята употребляют в разговоре вот какие-то термины или названия или слова, и все смеются, а я не понимаю, в чем дело. Потом я понял, в чем дело: они смотрели, а я не смотрел.
Телевидение играет с нами дурную шутку: ты садишься, включаешь его — и все! И день умер, вечер умер…
Смотришь — раз, вечера и нету. Вроде, так все и хорошо, а дня нет.
Я отношусь к этому плохо, это вообще все равно как… Ну, приходишь в ресторан, там толстое меню. Всяких салатов 10, супов 15, горячих блюд вообще 20. В общем-то, не имеется в виду, что ты их все съешь. Предполагается, что ты что-либо одно выберешь, ну, два… Вы-то точно по одному, я могу и три. А телевизор – это, получается, все меню употребляет человек — я плохо отношусь к этому.
На телевидение, повторюсь, я попал совершенно случайно. Когда был на практике в газете «Московский комсомолец», то женщина, которая проверяла мою практику, стала проводить общественно-политическое вещание на Российском канале, ей понадобился ведущий для маленькой международной программы. А я, вроде, был тогда старший журналист-международник, потому что был самый главный в «Известиях» по международному разделу. Вот меня позвали — и все. А я влюбился в телевидение, в эту работу. Я отделяю работу от «смотреть». Вот работать на телевидении — это прелесть.
Это был 94-й год — середина 90-х годов. Время абсолютного расцвета журналистики! Все руководствовались исключительно профессиональными принципами — сделать поинтересней, получше, обогнать коллег, что-нибудь придумать… Вот такая волнующая атмосфера хорошей профессиональной работы, хорошей команды. И это мне так понравилось, мне так захотелось в этом участвовать.
Ну, и потом, конечно, изобразительные средства. В газете, что ты можешь — шрифтами поиграть, заголовками, фотографиями — я в газете проработал большую часть жизни, в прессе — как я говорю.
А на телевидении-то возможностей больше — изобразительных, художественных… Ты не с карандашом работаешь, у тебя – краски!
В газете написал хорошую статью — может, тебе кто-то позвонит, письмо придет — сейчас люди мало писем пишут, потому что денег стоит и так далее. А если ты работаешь ведущим на телевидении, то тебя везде останавливают и говорят: там так или этак. Вот это очень здорово в хорошем смысле. Не то, что тебя узнают: «Ух, ты, смотри, кто пошел».
Когда к вам шел, то я стоял, вот тут, на улице Горького при переходе и ждал, когда зажжется зеленый свет вместе с двумя женщинами. Одна, видимо, мама. И вот мы стоим, ждем, пока зажжется зеленый свет, и вдруг я понимаю, что они говорят обо мне. Они обсуждали меня так, как будто я был столбом или пнем каким-то — то есть бездушным, неживым существом. Говорили о том, что лучше или хуже я выгляжу в жизни, чем на экране.
А отклик, отклик… К тебе человек подходит и говорит: вот я с тобой совершенно не согласен. И ты понимаешь, что ему было важно, что ты это сделал, что ты вот это показал, что ты затронул что-то и ему было интересно. Неважно, что он с тобой несогласен — он и не должен быть с тобой соглашаться.
— Скажите, а вы любите смотреть на себя с экрана?
Л.М.: Мне не нравится, потому что я сразу вижу кучу недостатков, как в своей работе, так и в работе коллег (телевидение — это групповое, в отличие от печатного, дело: там ты сам пишешь, сам за все и отвечаешь, а здесь многое зависит от бригады). И вижу очень много недостатков.
Бывает такой короткий момент, когда думаешь: вот это ты сделал не зря.
22-го, по-моему, июня в этом году мы сделали программу про расстрелянных после войны боевых генералов. Мерзко с ними поступили, их расстреляли, забыли. Оказалось, что дочка одного из них жива — вот мы с ней беседовали и сделали программу про этих людей. Я ее смотрел потом в эфире и мне как-то было до слез… Скажу честно, в какую-то минуту я подумал: вот это мне зачтется на том свете.
— С какими серьезными проблемами вам приходилось сталкиваться в работе журналистом, и как вы с ними боролись?
Л.М.: С какими только проблемами не сталкивался… Со всеми. Начиная с первого, что не можешь написать так хорошо, как надо. Это главная проблема. Это самое мучительное, что ты примерно понимаешь, как должно быть хорошо и с годами ты все отчетливее это понимаешь, как надо сделать, а не можешь. Ну, не получается!
Вот сидел вчера весь день за компьютером, ну не получается, не клеится — фразы какие-то всё плохие, не складывается, композиция не получается, первых слов придумать не можешь, окончание придумать не можешь. Все не так — ну все не нравится. Ненавидишь себя и свою работу.
Вот это самая главная проблема — что бы хорошо получалось. Я, конечно, никем-то, в общем-то, другим и не работал, но мне кажется, что можно быть, наверное, не очень хорошим инженером или врачом. Или в бизнесе, так сказать, не Потаниным. А в журналистике не очень хорошим журналистом — если ты это понимаешь, конечно, быть плохо. Потому как не только другие видят пределы твоих возможностей, а потому говорят: «Ну, этому не надо, это бессмысленно — мы знаем, что он принесет». Ты сам это понимаешь. И ты читаешь или видишь, что здесь делали другие, где плохо все. Это ужасная вещь. Вот это главная проблема
Естественно, есть масса всяких других проблем, начиная с цензуры — таких сложных взаимоотношений с самим собой в смысле компромисса, на который ты должен идти — это мы уже говорим о политической журналистике. Но самая главная проблема — профессиональная.
— А вы волнуетесь перед камерами?
Л.М.: Да, конечно.
— А как вы с этим боретесь?
Л.М.: А как с этим борются? А никак не борются! На третьей минуте спина мокрая все равно. Конечно! Но единственное, важно, чтобы другие просто этого не видели. Вот и все. Конечно, все остальное не имеет значения, но есть такое — волнуешься, боишься, и страшно тебе и все — вот главное, чтобы другие об этом не подозревали.
Я не знаю, как с этим бороться. Думаю, что никак. Зачем, чтобы быть совсем бесчувственным? Если ты бесчувственный, то бесчувственным из тебя журналист не получится. Если у тебя глаза не горят и если ты смотришь на людей, с которыми ты беседуешь, и они в тебе никаких чувств не вызывают, то или ты собеседников нашел плохих, что тоже бывает, или ты ни на что не годишься.
— Да, но бывает волнение, когда ты волнуешься и зажимаешься, а есть наоборот, когда ты волнуешься и у тебя волнение какое-то радостное. Ты дрожишь от своих положительных эмоций.
Л.М.: Ты дрожишь от всего. Я не знаю, в чем дело, но когда загорается эта лампочка, то ты дрожишь — я не знаю, как это объяснить — такой первобытный страх тебя охватывет: а вдруг не получится, что-то не то скажешь, а вдруг ты сейчас закашляешься? Чего только не может быть. А вдруг сейчас что-нибудь упадет, кто-то что-то уронит или кто-то что-то скажет? А если в прямом эфире вдруг кто-то начнет ругаться матом, например, или еще что-то.
Есть такие вещи, о которых ты должен думать. А вдруг он сейчас скажет «Банду Путина — под суд!», а у тебя прямой эфир. И ты что-то должен на это сказать, правильно? Нельзя же позволить так просто выскочить призыву к свержению президента! Это нехорошо. Ты можешь не любить Путина, быть в оппозиции, но такая фраза не может быть. То есть ты должен быть готов к этому.
Или еще что-нибудь скажут. Поэтому тебя, конечно, трясет.
А вообще, значит, не будешь работать в кадре. Это все очень просто. Не получается — и ты ни секунду в кадре не задержишься. Тебя вынесут оттуда.
Тяжелая в этом смысле, очень конкурентная среда: что-то не так — до свидания, вчерашние заслуги не в счет. То, что в прошлом году ты замечательно провел эфир, снял фильм и получил премию -абсолютно никого не интересует, кроме твоих родителей.
— То есть у журналистов не может быть ни одного прокола?
Л.М.: Нет, прокол может быть, но если ты неспособен, у тебя не получается, значит, до свидания, будет делать тот, у которого получается. Если ты не годишься для этой работы, то кто-то другой будет ее делать. Я говорю сейчас об условиях реальной журналистики, бывают и другие…
— Скажите, а вот вы кем только не работали: и печатались, и тележурналистом были. Какую из этих работ вы считаете более важной, которая более повлияла на вашу жизнь?
Л.М.: Я по степени важности не могу судить. Тут такая вещь: любая работа является важной. Если ты начинаешь как-то делить: «Это важнее работа, эта — менее важная, здесь мы немножечко так вполсилы поработаем, это вообще только из-за бабок я взялся, это начальство попросило, это потому что…» — все, тебе конец.
Так, вы представьте себе, что вы — канатоходец. Пройду плохонько — упаду! Так и здесь. Ты либо всегда хорошо работаешь, потому что считаешь это важным, либо ты начинаешь работать плохо и все, у тебя перо — оно крошится. Ты теряешь профессиональный навык — а вот это нельзя себе позволить. Я поэтому и говорю: должно нравиться. Должна нравится заметка в сто строк, подпись под ней.
Первое мое задание — я пришел в журнал «Новое время» работать, когда учился на факультете журналистики, и мне редактор отдела велел сделать подпись под фотографией. Я работал над этой подписью два дня, принес ему не помню сколько вариантов, подпись все равно не получилась, он придумал ее сам, заплатил мне 5 рублей — по тем временам были деньги (можно было пообедать и не один раз).
Если это твоя работа, ты должен над ней трястись. Ты должен ее делать хорошо. Будешь делать плохо, с тобой ничего не будет, ты не сможешь работать, понимаешь?
— Вы хотели славы? Вам нравится, что вас узнают на улицах?
Л.М.: В юности хотел — сил не было. Вы себе не можете представить, как я хотел. Так и видел себя: иду по городу, на груди звезда Героя Советского Союза, я захожу в прачечную, и без очереди.
Меня мама в детстве все время посылала в прачечную. Голые стены и одно извещение — правила работы, что-то такое. И там было написано : «Герои Советского Союза, Герои социалистического труда, трижды кавалеры орденов славы — без очереди». Вот я стоял в этой длинной очереди и думал: «Был бы я Героем Советского Союза, сдал бы бельишко и быстро пошел бы с ребятами гулять!». Раньше славы ужасно хотелось.
— А вот сейчас все еще хотите?
Л.М.: Знаете, с одной стороны, довольно рано я испытал узнаваемость в своей жизни. Очень рано к этому пришел, поэтому прививка от этого вовремя была, а с другой стороны, я очень рано увидел, сколь это недолговечно. Это вторая хорошая прививка. Так что я отношусь к этому спокойно. Но, повторяю, главное, конечно, то, что ты получаешь такую самую важную подпитку — ты видишь, что не зря работаешь. Людям важно то, что ты делаешь. Они с тобой могут соглашаться, не соглашаться — но им нужно то, что ты делаешь. Вот это имеет колоссальное значение. Это и есть понятие востребованности. Для мужчины это очень важно.
А что касается славы — это тоже иногда бывает полезно — в поликлинику, например, когда идешь, то пропускают без очереди. Но есть и сложности. То есть ты уже не можешь выйти на улицу небритый, в мятых штанах. Зайдешь в магазин, а тебе девушка скажет: «Ой, а на экране-то вы получше выглядите».
— У вас бывали в эфире ситуации наподобие «Путина — на мыло»?
Л.М.: Нет, такой не было. Была смешнее. Я тогда работал в новостях на нашем канале и там нужен был каждый вечер к основной десятичасовой программе комментарий на пять-шесть минут. Сидели же мы с самого начала выпуска новостей. А там как: рядом ведущий новостей, ну вот она читает сообщение, потом идет сюжет. И когда идет сюжет, то звук отключается в студии, и мы можем о чем-то говорить. О чем-то мы и болтали. Тогда пошла беседа с губернатором Архангельска. Обычно мы, естественно, слышим со звуком, а тут звук в студию не пошел. Мы же вдруг говорим: «О, Архангелогородец что-то там говорит, а нам даже звука не дали. Не уважают нас тут» И так вот мы что-то по поводу того, что какая у нас замечательная компания и как нас не уважают, беседуем. Проходит некоторое время. Позже выяснилось вот что: звукооператор в студии ошибся, пошел сюжет, а звук не от сюжета, а из студии. И вот это самый Архангелогородец несчастный, который возлагал большие надежды на это интервью, пошел под аккомпанемент нашего диалога о том, что нас тут совершенно не уважают.
— Вот вы говорили, что журналист должен всегда считать себя самым умным…
Л.М.: Я пошутил, я думал, что вы меня поняли.
— А вам самому кто-нибудь нравится из журналистов или вы все равно считаете, что лучше вас никто не может быть?
Л.М.: Вы знаете, я в принципе не люблю обсуждать коллег и не оцениваю их, но я вам скажу, что, конечно же, у меня всегда были люди, на которых я просто ориентировался и которым доверял.
Я выписывал газеты, в которых работал Отто Лацис — это был замечательный журналист, писавший об экономике. Я, к сожалению, ничего не смыслю в экономике, а мне хотелось бы понимать, что у нас в стране происходит — то я сознательно выписывал газеты, где он печатался, и читал его статьи, твердо зная, что он разбирается в экономике, и что он не ангажировал. То, что он напишет, это его личное мнение, основанное на его анализе. Не потому что его кто-то попросил или ему заказали этот материал — я знал его и знал его работу.
Такие люди всегда есть. И их не так много. В «Комсомолку» еще пишет Инна Павловна Руденко, но, к сожалению, все меньше и меньше в силу своего возраста и нездоровья, но я всегда ее оценкам доверяю. Также у меня были редакторы, которым я стопроцентно доверял. В работе обязательно должны быть ориентиры. Скажем, если стрелка компаса начинает крутиться, то ты должен расположить себя в каком-то пространстве.
— Вы окончили факультет журналистики. А что вы ответили на вопрос на творческом конкурсе «Что для вас значит журналистика?»
Л.М.: Вы знаете, я не помню.
— А что бы вы сейчас ответили, если бы поступали на факультет журналистики?
Л.М.: Со мной сложный случай. Я с детства хотел быть журналистом – судьба, поэтому у меня было это ощущение всегда. Я стенгазету в третьем классе даже дома делал. Я всегда хотел быть журналистом.
— У меня два вопроса: Сколько вы времени проводите в студии, на работе и второе — как вы отдыхаете?
Л.М.: Я провожу на работе все время, которое у меня есть.
— А как вы отдыхаете после этого трудного дня?
Л.М.: Я мало отдыхаю. Где-то к часам десяти вечера я уже, конечно, никакой, как говорила одна моя подруга, «на ноль помноженный» — уже даже читать, в общем-то, не могу. Я ставлю иностранный боевик – важно, чтобы этот фильм не имел никакого отношения к моей жизни и не требовал от меня никакого отклика. Я смотрю на бегающего-стреляющего Шварцнеггера, всопринимаю это все как сказку для взрослых, успокаиваюсь, расслабляюсь и иду спать.
Это, наверное, неправильно. Надо отдыхать, ведь жизнь не может состоять из одной работы, правда? Но если ты так много хочешь сделать, и тебе так много всего хочется — написать, и снять, и рассказать, и побывать, и съездить, и выступить, и встретиться — то времени-то не хватает и сил никаких нету — работа все съедает. Но если тебе это нравится — это все одно удовольствие.
— Каков ваш путь достижения цели: хождение по головам или более дипломатические пути?
Л.М.: Я бывал в молодые годы неоправданно жестковато-резковатым. Оказавшись в какой-то момент на административной должности, я даже уволил достаточное число людей, потому что был в ту пору твердо уверен, что я точно знаю, как надо делать этот журнал. Об этом я, в сущности, сожалею. От административной должности я отказался, потому что твердо себе сказал, что больше никем руководить не хочу и руководителем не стану. Я твердо этому следую.
— А на работе вы к коллегам относитесь именно как коллегам, то есть личные отношения вы перечеркиваете?
Л.М.: Нет, конечно же, особенно когда это касается женщин. У меня все романы в жизни были только на работе.
— Что, по вашему мнению, сейчас происходит со свободой слова в стране?
Л.М.: Я думаю, что вы сами представляете себе, что та власть, которая у нас существует, она была изначально напугана телевидением, потому что она видела, как расправляются с ее соперниками, и у властей возникло ощущение, что, может быть, они сами пришли к власти именно благодаря телевидению. А это является ошибкой. Нельзя переоценивать роль телевидения — как бы оно не влияло на людей, не это были главные факторы, например, в победе Путина в 2000-м году, совершенно нет. Но такой страх перед телевидением, которое может вознести и сокрушить, он был. Поэтому один из первых шагов после ельцинской власти был взять телевидение, то есть основные каналы под контроль. На самом деле это происходило не в одну секунду и не сразу, но, в конце концов, это довольно складно произошло, да и журналисты в минимальной степени этому сопротивлялись, так что общество с большой охотой на это согласилось.
Сейчас политическое телевидение в значительной степени находится под контролем, иначе говоря, перестало существовать.
Вот собирается команда и решает, что должно быть в вечернем выпуске. Из чего она должна исходить? Из того, что важно, что нужно, что является самым главным, о чем вы обязаны рассказать зрителю. Вот это профессиональный подход. Непрофессиональный — это когда «вот это надо сделать», «надо того-то показать», «этого не показывать»… Непрофессиональный — значит, плохой.
— О чем была ваша первая заметка?
Л.М.: Самая первая — в «Пионерской правде», про встречу с маршалом Буденным. А первая заметка в «Вечерней Москве» называлась «Помогает 05» — про справочную службу.
— А какие у вас планы на будущее?
Л.М.: Вот о чем не люблю говорить, так это о будущем.
— Как многим другим журналистам, вам нравится заставать людей своими действиями врасплох и чувствовать при этом свое превосходство?
Л.М.: Смотря с кем беседуешь. Если ты беседуешь с жертвой чего-то, то ты должен быть очень мягок, нежен и внимателен. Ты должен этого человека расслабить и помочь ему или ей рассказать. Если ты беседуешь с каким-то ученым, который тебе должен объяснить какую-то трудную теорию по физике, за которую он получил научную премию, а у тебя по физике была в школе только тройка, то тебе нужно, чтобы он какими-то простыми словами тебе секунд за 30 все это рассказал. Тут надо очень аккуратно с этим человеком беседовать, питать к нему колоссальный интерес и расспрашивать его до тех пор, пока его объяснение не изольется в какую-либо простую и ясную форму.
А если ты беседуешь с политиком, то ты должен относиться к нему плохо, потому что политик – человек, живущий за наш счет. Эти люди в основном нам врут, ненадлежащим образом исполняют свои обязанности. То есть ты тут нужен для того, чтобы общество знало, что эти люди делают на самом деле и заслуживают ли они того, чтобы получать наши деньги. Ты должен очень хорошо знать, с кем ты беседуешь, знать его послужной список. И ты должен очень жестко к нему относиться — только так.
— Как вы считаете, хорошему журналисту обязательно нужно ориентироваться в политике?
Л.М.: Если бы я знал, что нужно для того, чтобы стать хорошим журналистом!.. Нет, это зависит от вашей специализации. Почему, а можно быть замечательным журналистом и писать всю жизнь про кино, театр, оперу, науку.
— Что для вас важнее: личная жизнь или работа?
Л.М.: Для меня, к сожалению, работа, но это большая ошибка.
— Считаете ли вы, что факультет журналистики МГУ дал вам какие-то навыки и большую возможность, которая вам пригодилась? Просто дело в том, что многие журналисты считают, что незачем терять свои пять лет на то, чтобы получить теоретические знания.
Л.М.: Если ты твердо знаешь, что ты хочешь быть журналистом уже в 17 лет, то тебе прямая дорога на факультет, потому что это самый краткий путь к профессии. Короче не бывает. Ты поступаешь – и попадаешь в эту сферу. Если ты еще не окончательно определился с будущей профессией, то лучше получить какое-то другое образование.
— Нет, просто в некоторых странах люди могут получить журналистское образование только как второе высшее.
Л.М.: Никаких долженствований нет: журналистом может быть любой человек — как с образованием, так и без оного. Другое дело, что хорошее образование еще никому не мешало.
— А вы согласны с тем, что журналистике научить невозможно? Что журналистом можно только родиться?
Л.М.: Талантливым журналистом — да, надо родиться. А вообще, это ремесло. Любому ремеслу можно научиться и делать его крайне неплохо.
— Как вы считаете, личная жизнь и работа несовместимы?
Л.М.: Да совместимы, конечно! Вообще, нет никаких запретов и догм. Журналистика — свободная профессия, не знающая на самом деле никаких догматов.
— Какая у вас атмосфера на программе? Есть ли какая-либо цензура?
Л.М.: Сейчас я уже не веду ток-шоу, но раньше у нас был прямой эфир, определенные рамки… Я говорил гостям, что прошу их избегать нецензурных выражений и не говорить, например, фразу «Банду Путина — под суд», поскольку все это сведет нашу дискуссию к грубой ругани. Но вы имейте в виду, что люди, которые приходят на телевидение, понимают, что им нет никакого смысла позволить себе такое, поскольку они прекрасно знают, что тогда их больше не позовут. Так что не все так страшно на самом деле, не так тяжело.
— Как вы считаете, помолодела ли современная журналистика, как-то изменилась?
Л.М.: Глядя на вас, у меня полное ощущение того, что это так.
— А изменилось ли обучение журналистике?
Л.М.: Поскольку мой сын тоже учится сейчас на журфаке МГУ и, судя по всему, у тех же преподавателей, что и я 30 лет тому назад, то мне все-таки кажется, что традиции берут верх над новаторством. Правда, сейчас проще устраиваться, первую работу получить легче — больше возможностей, больше вариантов.
— А вам приходилось лгать в своей журналистской деятельности?
Л.М.: Я много раз врал за свою журналистскую деятельность. Знаете, вся советская журналистика была построена на глобальной лжи и точности в деталях. Забавно, я по сей день много раз перепроверяю себя и ошибок у меня не так много, как могло было бы быть. Но глобально все было построено на вранье, в котором мы и жили.
Когда я был еще совсем молодым сотрудником, мне очень хотелось что-либо написать. Ну, я и написал заметку о росте цен в Австралии. На первом этаже в английской редакции работала женщина, которая выросла и прожила большую часть жизни как раз в Австралии. Она меня встретила однажды и говорит: «Молодой человек, это ведь вы написали заметку про Австралию?». Я говорю: «Да». Она на меня так посмотрела сожалеюще и сказала: «Вы знаете, там не так плохо, как вы написали».
Я думал, что со стыда сгорю, и сказал себе: «Никогда больше, никогда больше не буду писать заметок про Австралию».
И вообще я себя ограничил. В советские времена я писал исключительно про японский милитаризм, что, в общем, было правдой. Ну не всей правдой, но правдой, то есть масштаб отклонения от истины был небольшой и по моим моральным нормам допустимым. А вот когда пошла перестройка, я себе в какой-то момент сказал, что больше врать не буду. И не врал.
— Вы говорите, что на телевидении вы работаете с бригадой. А кто-то один в этой бригаде решает, о чем будет программа?
Л.М.: Один, конечно, это я.
— А у вас возникало когда-нибудь желание свою собственную программу делать?
Л.М.: Нет-нет, я не настолько амбициозный, и я ничего не понимаю во многих вещах. Я вообще не телевизионный человек, я ничего не понимаю в том, как функционируют деньги на телевидении, я ничего не понимаю в развлекательных программах. Потому-то я и говорю, что больше я не хочу занимать никакую административную должность: никем не руководить, никому не приказывать.
— Вот вы говорили про советское время. Когда работать сложнее: в то время, когда все было ограничено какими-то жесткими рамками или сейчас, во времена свободы слова?
Л.М.: А работать всегда тяжело, это как в угольной шахте: какая разница, когда работать? Уголь добываешь и добываешь — вниз головой, в темноте, в сырости, в жаре, молоток так трясет, что тебе плохо от всего этого и ты долго не живешь. Нет, это не влияет — одни сложности — тогда, другие сложности – сейчас. Если ты всерьез к этому относишься, то это всегда тяжелая работа.
Другое дело, что удовольствие… Хотя, нет, знаете, я вырос среди людей, которые умудрялись и в советские времена делать то, что они считали полезным и нужным для общества, и они тоже получали от этого большое удовольствие. Им, конечно, его портили, но они тоже считали, что они делают хорошее дело, и они, в общем, его делали. Все зависит от тебя.
— Вот вы, наверное, заметили, что аудитория у нас практически вся женская…
Л.М.: Да, это прекрасно.
— Как вы считает, а почему так много журналистов среди женского пола? Хотя ведь раньше журналистика считалась исключительно мужским занятием.
Л.М.: Нет-нет, когда вы начнете работать, вы увидите, что там мужчины тоже есть.
— Ну а все-таки, почему женщин сейчас больше?
Л.М.: Вы знаете, когда я раньше на факультете учился, то там просто поток женщин сдерживали жесткие правила: столько-то отслуживших в армии, столько-то из рабоче-крестьянских семей, из провинции и так далее. Это сдерживало поток девушек, а сейчас, по-моему, на факультете журналистики одни девушки. Я так как-то стоял на балюстраде — может, вы меня поймете — море красивых женщин! Просто невозможно. Хорошо, что когда я там учился, этого не было — тогда бы я вообще не смог учиться.
Нет, вам так только кажется, в журналистике мужчин больше.
— А что вы там делали?
Л.М.: Вы знаете, я даже два года вел семинар, но сейчас прекратил — просто физически невозможно стало.
— Наш руководитель, Владимир Георгиевич Мезенцев, говорит, что плох тот журналист, которого не хотят убить. Не могли бы вы это прокомментировать?
Л.М.: Я надеюсь, он не всерьез это имел в виду. Хотя я понимаю смысл высказывания, конечно. Журналист, который безвреден, который никому не может причинить боль и страдание, он никому и не нужен. Ну, мы берем журналистику такую боевую, особенно политическую. Если журналист занимается милицией — его должна ненавидитеть милиция, если журналист занимается городским хозяйством, его городское хозяйство должно ненавидеть, если он занимается Государственной Думой — его должны ненавидеть депутаты Государственной Думы, потому что он рассказывает о том, какие они все на самом деле. А если он рассказывает им сладкие вещи, его облизывают, дарят ему там часы на праздник, то он хреновый журналист.
— Журналисты, которые не в политике работают, они не могут на полное звание журналиста претендовать?
Л.М.: Да нет, конечно, я шутил. Хорошего литературного критика прозаики ненавидят от всей души. Сколько презрения он получает, когда он уже отошел от этой среды! Но пока он там, с ним разговаривают так: «Владимир Иванович, дорогой, можно я пришлю вам свою новую книжку? А неужели вы не читали? А, может быть, вам понравится?..», а сам автор про себя думает: «Ух, сволочь, убил бы гада!». Это нормально, это значит, критик делает свое дело хорошо. А если ему: «Ну, вон, я тебе свою книжку послал, ты почитай, я уже договорился, ты там свою рецензию напечатай», то это жалкое существо.
Такая профессия. А впрочем, есть люди — фантастические, я ими восхищаюсь — которые умудряются говорить то, что есть на самом деле и при этом сохранять хорошие отношения с теми, кого они макают в грязь. Но это такой особый талант.
— А кто это?
Л.М.: Я не люблю говорить о своих коллегах, называть их, но я знаю одного человека, пишущего о телевидении, у которого можно прочитать все, что происходит на самом деле — все точно и ясно. При этом все люди, которых она «вот так вот», они все счастливы и радостны, всегда отвечают на ее звонки и все рассказывают. Талант такой.
— Говорят, что попасть на нынешнее телевидение можно практически только по связям.
Л.М.: Знаете, а раньше еще в большей степени. Ну, по знакомству устраиваются во всех сферах, поэтому такой особой среды телевидение в этом смысле не представляет.
Я знаю человека, который пришел просто с улицы — есть такой спортивный комментатор, и очень известный: такой высокий, красивый. Он, мне кажется, вообще даже без образования, просто приехал в Останкино, но он настолько фактурный, что его взяли просто с улицы — на моих глазах.
— То есть вы хотите сказать, что внешность играет очень большую роль…
Л.М.: На телевидении? Конечно, если речь идет о ведущих. Но представление о подходящей внешности в жизни и на экране немножко разное. Я знал милых девушек, которые не так хороши в жизни, сколь удачно выглядят на экране. Но помимо ведущего, на телевидении еще много важных профессий — режиссер, редактор — для которых внешность не имеет никакого значения.
— А как вы относитесь к нынешнему телевидению?
Л.М.: Я такой плохой телезритель — практически ничего не смотрю. Ко всему надо иметь привычку — к тому, чтобы смотреть телевизор, в том числе, а у меня такой привычки нет.
— Как вы относитесь к тому, что журналисты сейчас выдают информацию с целью шокировать своего зрителя, выворачивая все до такой степени, что они изображают даже то, чего на самом деле нет.
Л.М.: Ну, раньше в телевизионной журналистике значительно больше говорили о том, чего нет, так что этим меня не удивишь.
Сложный вопрос. Как привлечь внимание зрителя? Это серьезная проблема. Если один телевизионный канал, то вот человек сядет — и ему деваться некуда. А когда у него много телевизионных каналов — а сейчас в Москве много — и если он еще и купил телевизионную тарелку, то очень много, а у меня еще и DVD есть, и там еще что-то, то это серьезный вопрос. Почти все средства хороши, кроме прямой лжи. Ты можешь для начала, для затравки предположить любую версию, только ты потом должен расставить все на свои места, ты не должен соврать. Ты можешь для начала предположить что-то экстравагантное, но надо потом указать, что этого нет.
А заманить как-то надо. Ты же рыбу ловишь на крючок. Статья же — там и заголовок должен быть такой, чтобы на него глаз упал, вид его, фразу особенную надо придумать. Иначе все твои старания впустую.
— Как вы относитесь к феномену блогов, к свободной публикации мыслей людей? Вот я пишу, и сколько угодно людей могут это прочитать совершенно свободно, то есть в журналистике может «поучаствовать» практически каждый человек.
Л.М.: Я не знаю, это какая-то новая реальность, в которой я очень плохо ориентируюсь. Вот вы вошли в жизнь с этим, а для нас это что-то совершенно новое. Раньше люди писали только в туалетах на стенках свои мысли, а теперь с их мыслями может ознакомиться гораздо большее количество людей, чем посетители туалета. Это одна сторона дела, а с другой — каждый человек имеет право высказать свое мнение, сделать его известным всем. Я был бы последним, кто призывает к цензуре и преследованию в Интернете, хотя, конечно, должны быть специальные службы, которые скрывают порнографию или еще что-то, что заведомо попадает под статью Уголовного Кодекса.
Опасность цензуры всегда больше, чем те опасности, от которых она якобы оберегает.
— Раз уж речь зашла об информационных технологиях, то как вы к ним относитесь? Считаете ли вы, что телевидение и газеты умирают, оставляя за интернет-журналистикой право на жизнь?
Л.М.: Я хорошо помню, когда все говорили, что кино умерло, потому что появилось телевидение, а перед этим театр хоронили, но, тем не менее, все это более-менее сохранилось.
Думали, что телевидение уничтожит газеты — нет, оно, конечно, подорвало их значимость, но все-таки не так сильно, как предполагали.
Мое мнение таково, что все эти средства будут как-то мирно сосуществовать. Правда, в других пропорциях — они же меняются.
Хотя я по привычке больше люблю держать газету в руке, чем наблюдать ее на экране. Она мне просто больше скажет: что, где, как расположено, что мне редакция хотела сказать, на какой это полосе, в каком это контексте: внизу, наверху, справа, слева. Мне газета говорит больше, чем сообщение в Интернете. И не только мне. Но я думаю, что все это будет сосуществовать: новости в интернете, более серьезные — видимо, в газете, посмотреть — на телевидении…
— А вы не считаете, что может образоваться какая-то новая отрасль журналистики, которая будет совмещать в себе все вышеперечисленные?
Л.М.: Так уже образуется, насколько я понимаю. Это все холдинги: где интернет-порталы, газеты, журналы, телевизионные каналы — и все это вместе. Явно, что одно поддерживает другое.
Когда я пришел в жизнь, из техники были только проигрыватели и телефоны, а сейчас…
— Когда вы только начали заниматься журналистикой, то вы привнесли в жертву учебу?
Л.М.: В институте, на старших курсах у меня была уже репутация такая, что когда сказали: «Млечин пропустил», то ответили: «Не может быть». А в школе я учился очень плохо. В университете значительно лучше. Я вообще себя чувствовал все лучше и лучше, приближаясь к взрослой жизни.
— Вы знаете какие-либо иностранные языки?
Л.М.: Да, но плохо. Японский, английский и очень плохо — немецкий.
— Вы считаете их знание для журналиста необходимым?
Л.М.: На сегодняшний день, мне кажется, знание языка просто необходимо вне зависимости от того, чем ты занимаешься. Это даже не подлежит обсуждению: если вы не знаете язык, то вам плохо будет. Язык — он вам целую культуру открывает. Правда, уже все знают по одному языку — так три надо знать, два надо знать. Так что не теряйте времени.
— А вы много читали, и сейчас вы много читаете?
Л.М.: Да.
— Какие ваши любимые авторы?
Л.М.: Я читаю очень много, но я читаю специальную литературу — историческую. Я, к сожалению, вот уже несколько лет назад вынужден был отказаться от чтения художественной литературы, а, может быть, это оттого, что вкусы и мироощущения меняются с возрастом. Я очень много книг привожу из-за границы — чемоданы в прямом смысле. И все их читаю, у меня квартира книжками завалена — все это для работы. Просто мне очень интересно то, чем я занимаюсь, эта сфера — поэтому мне все это интересно читать. А потом можно и фильм по этим книгам снять.
Читать — здорово. Здорово, сейчас заходишь в книжный — а там книжек и газет…
— Какие газеты вы читаете?
Л.М.: Я читаю пачку газет: «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «Московский Комсомолец», «Новую газету» читаю, «Красную звезду»…
— Как вы все это успеваете?
Л.М.: А я и не успеваю.
— Широко распространено мнение, что экранизации книг сейчас абсолютно ужасные ставятся.
Л.М.: Я не видел ни одной экранизации, но судя по тому, что их достаточное количество, видимо, нет. Тут вот все хвалили сериал, сделанный по роману…
— Просто в «Комсомолке» часто пишут, что популярные фильмы, которые снимаются сейчас по книгам для молодежи, абсолютно безграмотно и бестолково сняты.
Л.М.: Может быть. Я не знаю. Ну и потом, не надо так серьезно ссылаться на газеты, потому что вы же не знаете этого профессионала. Будьте осторожны, мало ли что в газетах напишут.
Я помню, работал в газете, которую никогда не читал, потому что я знал авторов всех этих заметок, я присутствовал при их обсуждении, я знал о том, как эти заметки затевались, так что мне совершенно было неинтересно читать эту газету. Я представлял, что я там могу прочесть. А потом я ушел из этой газеты, и спустя некоторое время начал ее читать, даже прислушиваться к тому, что в ней написали. Когда же работаешь внутри, то поспокойнее к этому относишься.
— Вот мы все говорим о газетах, а вы читаете глянцевые журналы? Ну, в том числе, и политические.
Л.М.: Я читаю «Коммерсант-власть» — вот хороший журнал. Наверное, то, что вы, видимо, имеете в виду, я не читал. Я печатался в «Пентхаусе» — это было, да. А читать — нет.
— Судя по всему, вы во многом себя ограничиваете: например, читаете в основном историческую литературу. Неужели вас не тянет на что-нибудь такое вредное? Не знаю, по телевидению сейчас так много всего и…
Л.М.: Вы даже не можете себе представить, как часто тянет на вредное, и как часто я этому поддаюсь.
— Журналистика прививает тебе какие-либо привычки?
Л.М.: Нет, она, скорее, разрушает все привычки, так как это очень безалаберная и неорганизованная профессия. Если у тебя есть силы бороться с этим хаосом, то ты борешься, если нет — то так и живешь. Тут уж как сможешь. В принципе, конечно, профессия не располагает к организованности, скорее наоборот. И большинству это нравится.
— Какие темы для вас самые серьезные, а, может быть, самые запомнившиеся.
Л.М.: Это тема советско-политической истории, потому что здесь за что ни схватишься, то все ужасно, все так трагично, кроваво. Так лживо, ужасно. Ты себе пытаешься найти какие-то опорные точки, но только до той поры, пока не начинаешь копаться — а потом оказывается, что и этот человек участвовал в чем-то очень недостойном. Ты все время там находишь ответы на вопросы из жизни твоей семьи, твоей страны.
— Скажите, а когда вы к нам шли, вы подготовились? Обдумывали темы какие-то, продумывали варианты вопросов?
Л.М.: Я всю жизнь к этому готовился. Вот сидел здесь когда-то и думал: «Интересно, буду ли я когда-нибудь на трибуне?».
Да нет, просто я примерно знаю ту группу вопросов, которые интересует нынешнюю молодежь. Но готовиться плохо, потому что тогда будет элемент неискренности.
— А ваша работа не сделала вас пренебрежительным и вспыльчивым?
Л.М.: С годами характер портится — и не от работы, а от возраста.
— Вы сейчас от нас уйдете куда? Тоже работать?
Л.М.: Да, только я работаю дома. Как говорил один редактор «Известий» — «в тапочках». «Ты в тапочках будешь работать» — говорит. Я: «Что вы имеете в виду?». «Ну, дома!»
Вот я и работаю в тапочках большую часть времени. Сижу у компьютера, пишу.
— А во сколько начинается ваш рабочий день?
Л.М.: Как проснусь, хотя в принципе, день можно назвать идеальным тогда, когда ты делаешь всего два движения: утром сел к компьютеру, вечером встал от него. Это хороший день. Часов 10 можно поработать.
— Вы по жизни считаете себя удачливым человеком?
Л.М.: Профессионально — жизнь оказалась значительно счастливее, чем я мог предполагать в вашем возрасте, это точно. Вступая в эту профессию, я не думал, что окажусь в этой эпохе, когда журналистика станет такой интересной, и что так много удастся сделать. Не думал об этом, когда начинал, потому что тухлые были тогда времена.
— Вам приходилось подстраиваться под людей, чтобы достичь своей цели или вы всегда отстаивали свою точку зрения?
Л.М.: Всю жизнь подстраиваюсь, особенно в отношениях с девушками. Знаете, человек, который всегда и во всем отстаивает свою точку зрения, тоже весьма сомнительный субъект, и с ним иметь дело невозможно. Есть какие-то принципиальные вещи, позиции, которые ты сам определяешь для себя. Вот есть для тебя какие-то границы — ты их начертил незримо, за них ты не выходишь. А дальше уже начинаются компромиссы, естественно. Я мало знаю людей, которые вообще никогда не идут на уступки.
— Во время достижения своей цели вы наживали себе врагов?
Л.М.: Я наживал себе врагов, странным образом даже еще не достигнув никакой цели — характер, видимо, плохой.
— У вас есть какие-либо недостатки?
Л.М.: Ой, их что-то у меня так много… Но тот, который я себе больше всего ставлю в вину — это некая инертность. Мне легче весь день просидеть за компьютером, работая, чем все бросить, сорваться и куда-нибудь поехать. Это ведет за собой потерю каких-то человеческих связей. К тому же, тебе всегда лень попробовать, узнать что-то новое — то, что тебе, возможно, и нужно.
— У вас есть какие-то желания, то, к чему вы стремитесь?
Л.М.: В карьерном плане я никогда и не стремился ни к чему. Мне просто всегда хотелось много писать хорошо, сейчас — фильм снять хороший. Вот к этому я стремлюсь.
— Как вы считаете, чего не хватает в современной литературе?
Л.М.: Что касается общественно-политической литературы, то она сейчас на подъеме. Но нет расследовательской журналистики — ее вообще нет в стране. И в книжках расследований нет. Наверное, нет спроса, нет возможностей организационных — никто не станет это оплачивать.
— Вы все время делаете акцент на том, что предпочитаете исторические книги. А я вот разговаривала однажды с одним историком, и его мнение таково, что исторические книги сейчас основываются не столько на фактах, сколько больше на легендах, на выдумке. То есть большинство этих книг недостоверны. Вы не могли бы это прокомментировать?
Л.М.: Вы абсолютно правы. Исторические расследования можно проводить, но для этого нужно огромное количество материалов, которые зачастую еще и оказываются недостоверными. Конечно, надо все это сопоставить. Все надо проверять и перепроверять — вы же журналисты, это ваша работа.
— То есть исторические книги вас привлекают именно своими расследованиями?
Л.М.: Они привлекают меня возможностью узнать, почему то или иное событие произошло, так как я считаю, что все, происходящее сегодня, уходит своими корнями в историю.
— Вам хотелось бы, чтобы ваш сын пошел по вашим стопам?
Л.М.: Да.
— А это ваш выбор или больше его?
Л.М.: Теперь даже трудно сказать. Он, наверное, думает, что его.
…Ну что, мне, наверное, было бы неудобно более утомлять столь милую аудиторию, хотя, конечно, со многими девушками хотелось бы продолжить беседу… Лет двадцать назад — конечно.
Ведь что такое нудный человек? Ты его спрашиваешь: «Как дела?», и он тебе начинает рассказывать.
Записала
Анна ПЕТУХОВА